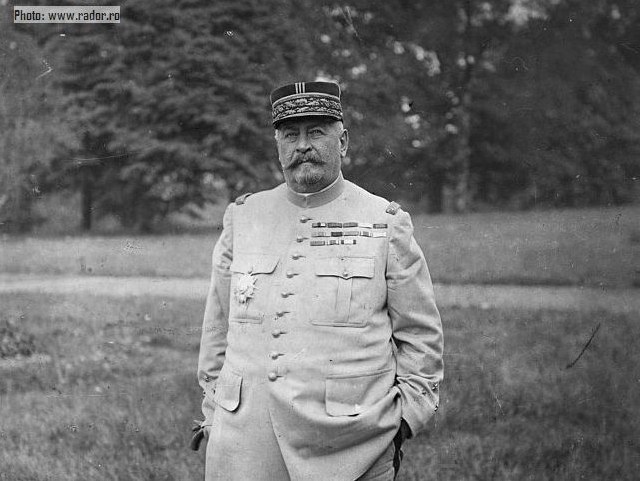Модель интеллектуального политического лидера появилась в европейской истории в древнем Риме, первым таким примером был император Марк Аврелий во втором веке нашей эры. Никколо Макиавелли в своей знаменитой книге о правильном управлении «Государь» утверждает, что интеллектуальный правитель всегда найдет хорошие решения для политического лидерства. В истории Румынии интеллектуальным господарем Валахии был Нягое Басараб в начале XVI века. Но самым известным был господарь Молдовы Димитрие Кантемир, оставивший после себя обширные труды в нескольких областях, таких как история, география, мораль, политология, музыка.
Димитрие Кантемир родился в 1673 году в семье господаря Молдовы Константина Кантемира и получил типичное для сына правителя того времени образование. Он учился в столице Османской империи, с 14 до 37 лет жил и получал образование на берегах Босфора. Его творчество включает классические сочинения «Диван, или спор мудреца с миром» «Описание Молдавии», «Иероглифическая история», «История подъема и падения Османской империи». Другими не менее важными книгами являются «Хроника древности романо-молдо-влахов», «Восточная коллекция», «Сокращение системы общей логики», «Исследование природы монархий», «Жизнь Константина Кантемира по прозвищу Старый, господаря Молдавии», «Система магометанской религии», «Книга науки о музыке». В знак признания его выдающихся заслуг перед наукой своего времени в 1714 году в возрасте 41 года Кантемир был избран членом Королевской академии Берлина. Его имя было процитировано известным английским историком Эдвардом Гиббоном (1737-1794) в книге «История упадка и краха Римской Империи» и американским историком науки Алленом Г. Дебусом (1926-2009) в книге о фламандском химике XVI века Яне Баптисте Ван Гельмонте.
Карьера Димитрия Кантемира в качестве политического лидера была не такой впечатляющей, как карьера интеллектуала. Он стал господарём Молдавии в 1693 году, в возрасте 20 лет, после смерти своего отца. Через 17 лет, в 1710 году, Кантемир становится господарём во второй раз, но только на один год. Он поддержал Петра Великого в русско-турецкой войне, но после поражения русских в Стэнилешть в 1711 году потерял трон. Димитрие Кантемир отправился в изгнание и жил при дворе Петра Великого в качестве его советника, а в 1723 году, в возрасте 50 лет, умер.
2023 год был провозглашен годом Кантемира, поскольку исполняется 350 лет со дня его рождения и 300 лет со дня его смерти. По этому случаю ожидаемым событием стала выставка рукописей и книг в библиотеке Румынской Академии, посвященная этой выдающейся личности румынской культуры. Академик Рэзван Теодореску заново повторил о Кантемире, что он был типичной европейской личностью своего времени, которая сблизила два культурных мира, Запад и Восток.
«О Кантемире известно так много, но многое еще предстоит открыть. Я помню, как несколько лет назад в брюссельской Национальной академии, бельгийской Академии, был организован коллоквиум на тему европейского духа Кантемира. В этом случае наша страна дала Европе великую европейскую личность. Не следует забывать, что «Descriptio Moldaviae» – Описание Молдавии – был частью нескольких заказов Берлинской академии, которая просила различные «описания» некоторых левантийских территорий. Этот интерес, особенно Пруссии, к миру Леванта был очень большим, и именно отсюда возник спрос на Кантемира. Мы не должны стесняться, политические союзы не должны сильно влиять на нас в некоторых ситуациях, и теперь именно такая ситуация, когда нам следует сказать, что Димитрие Кантемир стал членом Берлинской академии как русский князь. В определённый момент, когда прусская королевская семья хотела отдать дань уважения Петру Великому, они выбрали самого образованного человека в Российской Империи, и его, бывшего господаря Молдовы, предложили на пост члена Берлинской Академии. Кантемир объединил традиционную культуру этого пространства, османскую культуру с русской культурой. С этой точки зрения он является первым представителем европеизма на заре открытия новой, досовременной Европы».
Константин Барбу, издатель работ Димитрие Кантемира, рассказал о рукописях, которые составляют часть выставки, посвященной ученому.
«После Кантемира осталось около 200 томов. На данный момент мы напечатали 104 тома. Мне удалось полностью собрать две рукописи Кантемира, теперь они представляют собой полные рукописи Кантемира и в Москве, и они также находятся здесь, в Бухаресте. Я привез много неопубликованных рукописей Кантемира, даже названия которых не были известны. Здесь есть несколько рукописей, в том числе две главы «Descriptio Moldaviae» – Описание Молдавии, это подчерк немецкого синолога Готлиба Зигфрида Байера, профессора Петербургского университета. Но его рукописи можно найти не только в России, их также можно найти в Берлинской академии. Я также привез 15 рукописей из Берлинской академии».
Трёхсотлетие Кантемира в 2023 году заново обращает внимание румынской публики на выдающуюся личность румынской, но одновременно и европейской культуры.